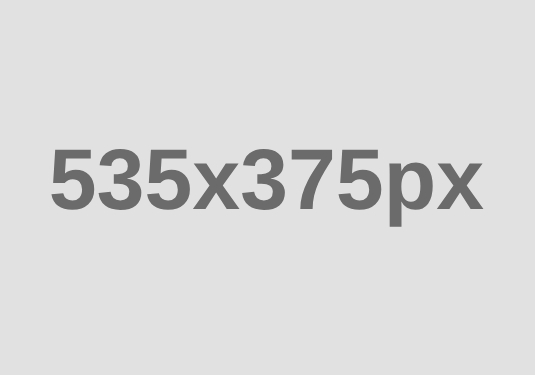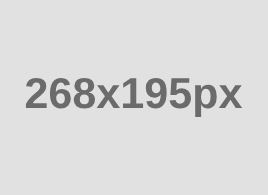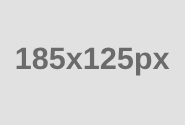Почему Бог настолько жесток, что требует от Авраама жертвоприношения своего сына?
Однажды Бог потребовал от Авраама, чтобы тот принёс Ему в жертву своего любимого сына Исаака, которого они с Саррой так долго ждали и уже не надеялись получить, ибо «Сара была неплодна» (Быт.11:30). Эта история описана в 22-й главе книги Бытия и очень широко известна. Именно о ней и был вопрос, потому что она совершенно не

Подорвал себя гранатой – герой или самоубийца?
Сегодня мы с вами поговорим, наверное, об одном из самых сложных вопросов, связанных с войной: а именно, когда солдат сам себя лишает жизни. Это может быть подрыв себя гранатой вместе с солдатами противника, или когда стреляется, желая избежать плена и в некоторых других случаях. Можно ли такой поступок назвать самоубийством?
Церковь и война. Может ли христианин брать в руки оружие?
Об отношении Церкви к войне. Все 3 части в одной статье. Текстовый вариант видео с канала на YouTube и Rutube. Одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день является вопрос об отношении христиан к войне и боевым действиям. Можно ли христианину служить в армии, воевать, убивать на войне? Как вообще относится Церковь к войне? Может
Следовать за Христом или за епископом?
О пребывании Церкви без епископа. Очень часто задаётся вопрос и даже ставится упрёк, что старообрядцы долгое время не имели своего епископа и, следовательно, не могут считаться Церковью Христовой, когда, сохраняя одни элементы церковного Предания, якобы были отвергнуты другие, отвергнут опыт первых веков, когда считалось, что ничего нельзя делать без епископа. Поэтому, старообрядческая церковь – это
Ответ на доклад о. Василия Андронникова «Об изобразимости Господа Саваофа».
о. Евгений Гуреев Доброго здоровья! В прошлый раз мы с вами разобрали историческую канву вокруг дела дьяка Висковатого. Сегодня же попытаемся разобрать вопрос по существу, рассмотреть те доводы, которые приводит в своём докладе о. Василий Андронников, защищая иконографические изображения Бога-Отца и Новозаветной Троицы. Надеюсь, что это заключительное видео по данной теме. Отвечу тем, кто считает
Архивы
Календарь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||